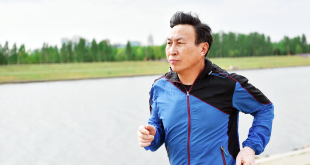Психолог Сұлушаш Хабиболлақызы в интервью Datinfo рассказала о том, как формируется лудомания у подростков, по каким признакам её можно распознать и как родителям вовремя помочь. В беседе поднимаются важные вопросы профилактики, доверия и поиска выхода из игровой зависимости.
– Сұлушаш Хабиболлақызы, спасибо, что согласились на этот разговор. Игровая зависимость у подростков – тема, которая пока еще звучит нечасто, но вызывает всё больше тревоги у родителей. Давайте начнем с самого начала: что такое лудомания и как она проявляется у подростков?
– Да, вы правы, эта тема только начинает звучать всерьёз, а проблема уже существует в полном масштабе. Лудомания – это патологическое стремление к азартным играм. Но сегодня это не только казино и ставки на спорт. Для подростков азарт прячется в «безобидных» на вид цифровых играх – мобильных приложениях, лутбоксах, игровых кейсах, механиках с «выигрышем». Всё это по сути – азартные игры в новой упаковке.
Подросток, у которого только формируется самоконтроль, легко попадает в зависимость. Особенно если он ищет способ справиться с тревогой, неуверенностью или нехваткой признания. А азарт даёт ему мгновенный отклик: риск, азарт, эмоции, эйфория от выигрыша. Всё, что делает мозг «счастливым» – но ненадолго.
– То есть это не про деньги, а скорее – про эмоции?
– Совершенно верно. Особенно у подростков. Для них ставка – не ради материальной выгоды. Это скорее: «Я хочу почувствовать, что что-то контролирую. Что у меня получается. Что я не пустое место».
Я вспоминаю один случай. Парень, А., 15 лет. Его мама пришла ко мне очень встревоженной: «Он стал отстранённым, постоянно в телефоне. Просит деньги – сначала на обеды, потом стал в долг брать у друзей. Резко стал раздражительным. Я не узнаю его».
Когда мы начали с ним говорить, всё раскрылось. Сначала – ставки на киберспорт. Потом – игры с виртуальной монеткой, где можно удвоить сумму. Он сказал тогда одну важную вещь: «Я просто хотел один раз выиграть. Не деньги – себя».
Он чувствовал, что проигрывает всё в жизни – в школе, в отношениях, даже в себе. А когда выигрывал – на секунду ощущал: «Вот я кто-то!».
С мамой мы тоже работали. Её реакция была очень честной: сначала злость, потом страх, потом растерянность. Но она не сдалась. Мы вместе искали путь – не через жёсткие запреты, а через поддержку и восстановление доверия. Сегодня А. ходит в технопарк, увлёкся робототехникой. И недавно сказал мне: «А я думал, я пропал. А оказалось – просто был не там, где меня слышали».
– Это невероятно… И страшно. Как родителям вовремя заметить, что что-то не так?
– Обратите внимание, если подросток стал закрытым, раздражительным, перестал интересоваться тем, что раньше радовало. Если просит деньги и не может объяснить зачем. Если появляется жёсткая привязанность к экрану, особенно к определённым приложениям. И, конечно, если замечаете, что он стал прятать активность или играть по ночам. Но главное – не впадать в панику и не начинать с крика.
– А как тогда говорить об этом?
– С заботы. С позиции: «Я рядом, и я вижу, что тебе нелегко. Я не хочу наказывать, я хочу понять».
Даже если ребёнок закроется, это послание останется. Не бойтесь показывать чувства. Не бойтесь говорить: «Я волнуюсь, потому что люблю тебя». Это не слабость – это родительство.
– Сұлушаш Хабиболлақызы, часто ли родители винят себя, когда сталкиваются с этим?
– Очень часто. Особенно мамы. Они говорят: «Я упустила. Я не проконтролировала. Это моя вина». Но знаете, в этих словах уже заложена сила – потому что, если человек переживает, он готов что-то менять. Важно понимать: никто не застрахован. Мы не можем держать детей под стеклом. Но мы можем быть рядом, когда они оступаются.
– Вы говорили, что жёсткие запреты – не выход. А что тогда делать на практике?
– Прежде всего – не воевать, а разбираться. Не блокировать всё сразу, а начать диалог. Попробовать понять, что за этим стоит. Возможно, игра – это не проблема, а симптом. Может, ребенок не чувствует себя нужным или у него нет пространства, где он может самореализоваться. Очень важно подключать специалистов: психолога, иногда – педагога, если проблема затрагивает и школу. И обязательно – работать вместе с родителями. Без них никак.
– Можно ли вообще избежать этой ситуации?
– Стопроцентной гарантии нет. Но можно создать такую среду, в которой ребенок не будет искать спасения в игре. Это – теплые отношения в семье, живое общение, интересы вне экрана. И, конечно, информированность. Подростки должны знать, что такое азартные механики, как они работают, почему они могут затянуть. Мы должны говорить с ними об этом – открыто, спокойно, без табу.
– Сұлушаш Хабиболлақызы, спасибо вам за честность и тепло в этом разговоре! Что бы вы сказали родителям, которые сейчас узнали себя в этом интервью?
– Сказала бы вот что: вы не плохие родители, и ваш ребенок – не безнадёжен. Если вы сейчас чувствуете страх, растерянность, вину – это значит, что вам не всё равно. А это уже очень многое. Начните с малого. Не кричите – слушайте. Не запрещайте – выясните, зачем он туда уходит. Иногда один открытый, честный разговор может изменить направление жизни. Главное – быть рядом. Даже если вы пока не знаете, как помочь. Просто будьте. Этого уже достаточно, чтобы началось что-то новое.
Айгуль ТАКИРОВА