- «У него был огромный потенциал, чтобы стать еще и великим реформатором, отцом нации – как Ататюрок, но этому помешал один недостаток – его сердце не в должной мере создано Всевышним, чтобы болеть за благо народа и Родину. Личные мотивы стояли выше общественных.
- Акежан Магжанович многое мог сделать, но, насколько я знаю, находился под постоянным давлением. Я чувствовал, что ему не очень удобно передо мной, но я прекрасно понимал, что на нем никакой вины нет, и поэтому ни тогда, ни тем более сейчас на него не обижался и претензий не имел.
Жаугашты Набиев:
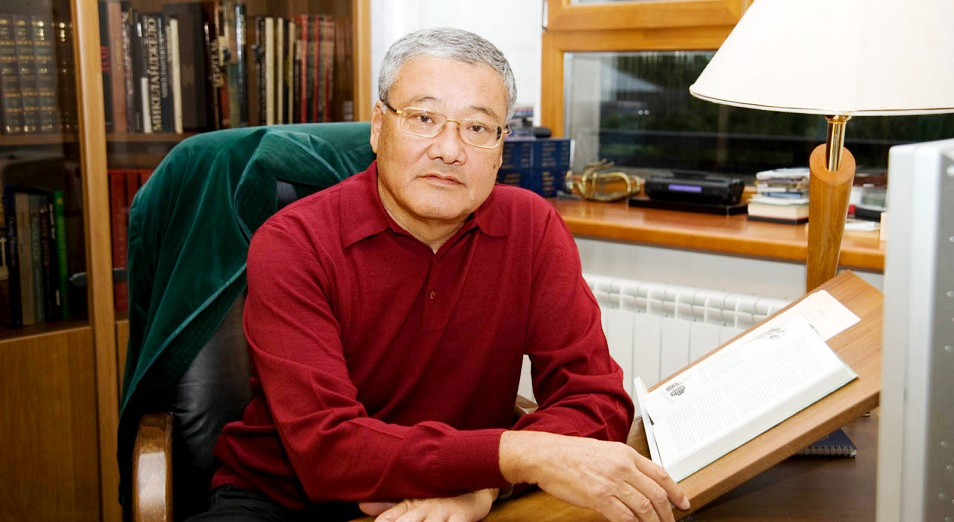
- (Окончание. Начало в номере от 17 июня)
– Чтобы спасти страну от возможного экономического краха, прежде всего надо найти пути избавления от внешних долгов, – продолжил нашу беседу Жаугашты Жоланович. – По большому счету, исходя из фигурируемых в различных источниках информации размеров внешнего долга и объема выведенных за рубеж финансовых средств можно рассчитывать, что первый вполне может быть компенсирован вторым. Об этом же пишет Заграничное бюро Казахской оппозиции. При умелой мобилизации финансов объем этих средств Казахстана достаточен, чтобы спасти страну от ожидаемых катастроф. Но для этого необходимы слаженная работа вышеуказанного объединения (см. номер газеты от 17 июня) честных, патриотично настроенных госслужащих и предпринимателей, а также правильная реакция президента и елбасы. Правда, у меня есть факт несбывшегося ожидаемого сюрприза со стороны первого президента, предсказанного мною 10 лет назад:
«Насколько я его знаю, он не может просто так, как многие говорят, раздать иностранным компаниям крупнейшие предприятия республики. Президент вполне может преподнести сюрприз, вернув главные активы государства, сохраненные в трудные времена, в общенациональный фонд. Тогда всякое сопротивление к единению будет снято» («Свобода Слова» №46 (341) 8 декабря 2011 года).
– Но, как видите, вашему ожиданию не суждено было сбыться…
– Да уж, к сожалению… Более того, распродажа продолжается. Ни в коем случае нельзя продавать национальные компании. Даже если есть необходимость акционировать их, то контрольный пакет акций в любом случае нужно сохранить в руках государства. Ресурсодержатели, то есть иностранные компании и наши же олигархи – владельцы добывающих предприятий, не считаясь с потребностями республики, поставляют наши природные богатства по своему усмотрению, где выгодно продавать. Например, наши же авиакомпании порой испытывают дефицит авиаГСМ (керосина), при наличии трех нефтеперерабатывающих заводов, так как владельцы нефти диктуют заводам производить продукцию подороже, например, дизтопливо. Владельцам горнодобывающих предприятий вообще нет резона строить и развивать перерабатывающие заводы. Им выгодно через свои офшорные фирмы поставлять на мировой рынок только первично переработанное сырье (без добавочной стоимости) – быстро, без лишних затрат.
Во-вторых, нужно максимально упростить вложение госинвестиций в развитие малого и среднего бизнеса (МСБ). Действующие условия договора и регламенты оказания помощи МСБ, разработанные госорганами, далекими от реальной жизни, невыполнимы и неподъемны для субъекта бизнеса. Компания, обратившаяся за финансовой помощью для развития мощности, должна: передать третьему лицу свое недвижимое имущество в залог с правом на его внесудебную реализацию; увеличить свой уставной капитал на сотни миллионов; вложить в банк в качестве депозита неснижаемую сумму в еще несколько сотен миллионов; запретить совершать какие-либо расходные операции с банковского счета без согласования с заимодателем. Не получив и не смонтировав необходимое оборудование, заимополучатель должен выплачивать с отсрочкой по основному долгу в 12 месяцев и без отсрочки по выплате его вознаграждения с коммерческой ставкой не менее 14% с момента получения денег.
– Откуда у МСБ появятся такие деньги, если оборудование еще даже не пересекло границу республики, не запущено и приносит какую-то прибыль?
– На мой взгляд, такие условия выставляются просителям, как говорится, с улицы, а вот кто по звонку определенного круга лиц обращается, к тому не применяются. Почему? Потому что это невыполнимые условия!
Вообще, всех творения наших вышестоящих чиновников, начиная с Налогового кодекса, все нормативно-справочные акты, различные ведомственные инструкции и регламенты должны быть подвержены тщательной проверке и изложены в соответствии с требованиями цивилизованного мира, с исключением всех формулировок-крючков, специально созданных разработчиками в коррупционных целях. У меня есть несколько случаев борьбы с госорганами и опыт изменения подобных формулировок. Привести эти примечательные опыты в данном интервью невозможно из-за большого объема материала. Думаю, как-нибудь в будущем.
– Да, в этом году нашей Независимости исполняется 30 лет, и мы намерены с вами продолжить нашу беседу, как с одним из активных участников построения нового Казахстана. Кстати, десятилетие назад, к прошлому юбилею, вы, кроме всего прочего, были убеждены в необходимости Евразийского союза, который тогда был в зачаточном состоянии. Изменили ли вы свое мнение?
– Человек имеет право на изменение мнения по тому или иному поводу. Хуже, когда он начинает предавать свои принципы. Принципы я не менял и менять не собираюсь, а что касается Евразийского союза, то изменил мнение, скорее, к тем, кто и как продвигал эту идею, кто извратил ее настолько, что для Казахстана и простого народа она стала приносить только вред, хотя могла приносить пользу. Причиной этому служит то, что изначально не были соблюдены принципы, о которых я тогда, в 2011 году говорил. И я могу объяснить, почему я придерживался таких взглядов.
В свое время я встретился с Мухтаром Шахановым, с которым мы ровесники, с Серикжаном Мамбеталиным и еще рядом лиц, которые в те годы выступали против Таможенного союза – пытался объяснить свою позицию. Она заключалась в том, что нельзя однозначно выступать против таких союзов, тем самым демонстрировать свою недальновидность. Важно подходить к этому вопросу взвешенно и разносторонне. Мы должны идти туда не столько сознательно, сколько с умом. Тогда нашему потенциальному союзнику в лице России тоже было нелегко в плане экономики, да и был уверен, что и Украина тоже станет членом ЕАЭС, а вместе, помогая друг другу в равной степени, мы реально могли не только выйти из кризиса, но и поднять экономики своих стран.
Поэтому я предложил Шаханову и его соратникам выступить перед народом, что они не против экономического союза с бывшими республиками СССР, но при этом необходимо учитывать предыдущий «союзный» негативный опыт. Нужно сразу, «на берегу», оговаривать все условия, на которых мы идем в этот Союз, что надо сделать, чтобы исключить шовинизм и диктат одного центра, как решать возникающие проблемы и так далее. Проще говоря, такие союзы надо реально создавать на условиях, выдвигаемых народами наших стран, а не тех, кто выступает от их имени – я имею в виду правительства, которым в случае чего есть куда отступать и найти прикрытие. То есть не власть с властью должны подписывать договор, не Астана с Москвой, а народ Казахстана с народом России. Шаханову я сказал, что Россия когда-нибудь станет по-настоящему экономически сильным государством, но тогда они уже не будут нас слушать и будут диктовать. В общем, я ему предложил выступить с интервью, сказав, что Союз может быть только при условии, если так решит народ, заодно добавив, что все равно придется решать – ты с Россией или с Китаем. Я и сейчас уверен в том, что нам нужен первый вариант, в том числе потому, что он более привычный и исторически доказанный.
– Но власти тогда не прислушались к мнению народа. А сейчас, через 10 лет, исходя из нынешней ситуации, вы изменили свое отношение к Евразийскому союзу?
– Конечно, не прислушались. По поводу нынешней ситуации скажу так – сегодня Путин есть, а завтра его нет. А русский народ и Россия будут существовать. Мы территориально не можем от них отстраниться. То есть, и мы, и они обречены жить рядом и вместе. Другой вопрос – как быть вместе. Тут о многом можно говорить. Скажем, они должны признать Голодомор 20–30 годов прошлого века, который можно считать геноцидом казахского народа. А нам, в свою очередь, нужно думать не только о негативных сторонах общей истории, но вспоминать и позитивные стороны, которых было тоже немало. Хочешь не хочешь, но в цивилизованный мир мы вошли благодаря им, и никакое «если бы» здесь не применимо – история не признает сослагательного наклонения.
– Действительно, сегодня много и слишком часто с тоской вспоминают о Советском Союзе. Не кажется ли вам, что такая ностальгия появляется потому, что независимый Казахстан пошел не по правильному пути? Ведь мы могли и должны были жить лучше, чем в СССР. Когда мы повернули не туда?
– Виталий Воронов в интервью вашей газете правильно сказал, что мы создали не ту страну, которую хотели. Когда повернули неправильно? На этот вопрос я знаю точный ответ – с самого начала. Думаю, это было в голове одного человека. Он обладает гениальными способностями и является мощным руководителем – этого не отнимешь. У него был огромный потенциал, чтобы стать еще и великим реформатором, отцом нации – как Ататюрок, но этому помешал один недостаток – его сердце не в должной мере создано Всевышним, чтобы болеть за благо народа и Родину. Личные мотивы стояли выше общественных. Это все испортило. А в остальном он был почти безупречен – как оратор, как дипломат, как командир, как организатор. По личному опыту знаю, из-за этого противоречия многие правильные, эффективные предложения развития экономики страны были отвергнуты, и сейчас мы пожинаем плоды.
– А Назарбаев предлагал вам что-либо?
– Да, было такое. Это была наша последняя встреча. Не помню точно, но это происходило, кажется, в 1994 году. Тогда он пригласил меня и сказал: «Как смотришь на то, чтобы вернуться на госслужбу?». На что я ему ответил: «Я думаю, что больше пользы принесу для страны, занимаясь тем, чем занимаюсь сейчас. Бизнес в Казахстане надо поднимать и развивать, и я примерно вижу, как надо это делать». Потом мы поговорили на разные темы, он живо всем интересовался, показывал, что во многом разбирается, но при этом не стыдился переспрашивать и уточнять. Я принес с собой штук пять писем с предложениями, а когда уже все разобрали, он еще раз мне предложил подумать над тем, чтобы вернуться на государственную службу. Тогда я ему ответил: «Нурсултан Абишевич, если вы считаете нужным, то вернусь, конечно». И на этом мы попрощались. В любом случае, мяч остался на его стороне.
– Самому вам не хотелось потом пойти в политику?
– Для меня лично этот вопрос периодически всплывает – в том плане, что я сам его себе иногда задаю. А потом сам же отвечаю – для меня идти в политику нет никакого желания. Когда я начинаю все взвешивать, то понимаю, что это не мое. И каждый раз, снова и снова, я прихожу к мысли, что мне не дано быть первым лицом, лидером, большим политиком.
– Здесь я не могу с вами согласиться – вы все-таки лидер, создавали с нуля огромные предприятия, организовывали настоящие работающие команды… Можно сказать, начали создавать банковскую систему республики: в 1991 году «Казкоммерцбанк» (в качестве единственного учредителя), в 1993 году первые два совместных банка: казахстанско-турецкий «Казкоммерц-ЗираатБанк» и казахстанско-американский «Техсакабанк» (ТехасКазахстанБанк). Из почти обанкротившихся урановых рудоуправлений – Национальную компанию «Казатомпром». Вы первый казах – бизнесмен, включенный в Европейский ежегодник «WHO/ S WHO» (1992 – 1993). И многие другие…
– Нет, здесь есть большая разница. Я скорее хороший исполнитель. Если передо мной поставят задачу, то я ее выполню в лучшем виде. В том числе, если сам себе поставлю какую-то цель. Этого у меня не отнять, признаюсь. Я больной в отношении работы, и чем она сложнее, тем лучше для меня. Но это не политика.
– Тогда о другой вашей инициативе, закончившейся ничем. Вы предлагали построить нефтеперерабатывающий завод в Мангыстауской области…
– Не только предлагал – я осуществил всю подготовительную работу, обосновал необходимость строительства завода по переработке тяжелой нефти именно там, затем в Лондоне с помощью американской инжиниринговой компанией «UOP» (Universal Oil Products) подготовил тендерные задания и провел первый в истории Казахстана международный тендер. Вообще идея строительства этого завода начиналась с выпуска совместного постановления совета министров Казахской ССР и миннефтегазпрома СССР от 14 февраля 1991 года, то есть еще при Союзе. Я и генеральный директор ПО «Мангышлакнефть», депутат Верховного Совета СССР Бекбосынов Нурлыхан (ныне покойный) были инициаторами. Проделали большую работу, и фактически оставалось только поставить подписи под окончательным договором с инвестором.
– Но кому это мешало? Ведь за годы независимости миллиарды были потрачены на реконструкцию имеющихся трех заводов, на эти деньги можно было построить новые, с современными технологиями.
– Мешало тем, кто попал под влияние «экономических убийц», если коротко. А вообще, я сам этим вопросом задавался многие-многие годы, а потом наконец нашел ответ – все дело в коррупции. Конечно, взятки можно получать и при новых заводах, но так, по всей видимости, лучше и проще. В своей книге я более детально описывал это. Я могу только предполагать, но, думаю, всему виной коррупция и лоббирование, в том числе, зарубежными и транснациональными компаниями, которым невыгодно, чтобы Казахстан суверенно занимался нефтепереработкой и производил свои нефтепродукты – для них лучше, чтобы мы были только сырьевым придатком.
– Могли ли что-то изменить, скажем, премьер-министры того времени?
– Сергей Терещенко, думаю, ничего не мог изменить. А Кажегельдин – мог. Более того, он кое-что серьезное успел сделать. Сам Акежан Магжанович в то время мне нравился и нравится сейчас. О нем я узнал, когда он возглавлял «Бизнес-клуб», а когда его назначили заместителем премьер-министра, то зашел к нему (как гендиректор внешнеэкономической ассоциации «Казахстан-Коммерция») с идеей о создании государственной внешнеэкономической компании. Для этого я подготовил проект устава, проект постановления и других учредительных документов, расписал всю предстоящую деятельность. Кажегельдин все это внимательно прочитал, а потом говорит: «Жаке, идея великолепная, но ее не примут. Лучше вы свою ассоциацию приватизируйте, а я подпишу все необходимые документы». Мне эта идея, в свою очередь, пришлась по душе и мы приватизировали ее, создав акционерное общество «Казахстан-Коммерция».
Вообще, Акежан Магжанович многое мог сделать, но, насколько я знаю, находился под постоянным давлением. Я чувствовал, что ему не очень удобно передо мной, но я прекрасно понимал, что на нем никакой вины нет, и поэтому ни тогда, ни тем более сейчас, на него не обижался и претензий не имел.
Если говорить о «Казатомпроме», когда он через третьих лиц дал понять, что я не могу стать президентом своего «атомного» детища, то для меня главное было сделать дело, запустить важное для страны предприятие. И я, как было оговорено, проработал первым заместителем президента «Казатомпрома», фактически выполняя обязанности его главы.
– Так много было всего. К слову, откровенно говоря, вы не выглядите на 80. Поэтому банальный вопрос – в чем секрет?
– Я знаю об этом, и мне всегда говорят о том, что в моем возрасте пора бы успокоиться. Но это не по мне…
Все равно, подходя к 80-летнему рубежу, много думаю над этим, много читаю – особенно переводную литературу – о старости, о возрасте и так далее. Просто с детства я по характеру был такой заводной, дурной, может быть, и очень любил работать, не сидеть без дела.
– Вы, насколько известно, начали с работы на железной дороге, и уже тогда показали себя с хорошей стороны. Сколько вам тогда было?
– 16 лет. Как только закончил школу, пошел на железную дорогу, где проработал два года путейцем – тяжелейшая в физическом плане работа, должен сказать. А если конкретно, то забивание костылей является сложной и тяжелой работой – обычно новички часто ломают молот. Забивают костыли для приведения в норму расстояния между рельсами, которое должно быть 1524 мм (допускается отклонение минус 2 мм, плюс 4 мм), эта физически грубая, но по существу тонкая, чуть ли не ювелирная процедура. А у меня это получалось играючи – так могли делать только мастера с многолетним стажем.
И здесь мне попался хороший учитель – начальник колонны Сойнов Аркадий Иванович. Такой мощный мужик, которого все боялись и уважали, и он, как говорится, положил на меня глаз. Он меня постоянно вдохновлял – тем, что давал мне самую сложную работу, несмотря на возраст, поручал ответственные задания, выполнить которые для меня было высшим счастьем. А еще он называл меня «сынок». Это для меня, выросшего без отца, было самой главной наградой!
– Как я понял, вам постоянно везло с людьми, которые вам встречались на жизненном пути. Но, судя по всему, главным из них является ваша бабушка Азен. Расскажите о ней немного.
– О‑о, о своей аже я могу рассказывать часами! Вся моя первая часть книги, по сути, посвящена ей. И это неспроста – действительно, я считаю, что все, чего я достиг в своей жизни, начиная с любви к труду и желания достичь успеха, все это благодаря только бабушке Азен. Ее пожелание мне – крылатое выражение «Қатарыңның алды бол» (Будь первым среди равных) – стало для меня девизом и жизненым кредо на всю жизнь. Ни отцу, ни матери, а именно ей большего всего обязан. В нашем колхозе ее не просто уважали, а даже боялись. Во время войны все женщины, которые получали «қара қағаз», первым делом шли к ней за утешением. Председатель сельсовета Жолай-ага, оказывается, предупредил почтальонку, что если придет на ее имя эта «черная бумага», не отдавать ей, а нести сразу ему. Но каким-то образом до нее дошло извещение о смерти сына – одного из шестерых, которых она отправила на фронт. Ей, в отличие от других, не к кому было идти, и она пошла с этим к Жолаю. Видя это, он молча достал и отдал ей еще два извещения…
Несколько дней она не вставала с постели – горе потери троих сыновей оказало сильнейшее давление на эту самую сильную женщину, которую я когда-либо видел в своей жизни. И тогда председатель пришел к ней домой и заявил: «Эй, Азен, хватит плакать! У тебя на руках остались еще внуки – кто, если не ты, поднимет их на ноги?!». Потом она рассказывала, что именно эти слова заставили ее подняться. Более того, смотря на нее, все другие женщины аула, потерявшие мужей и сыновей, перестали работать, никого не слушаются – даже его, председателя Жолая. А нас было 15 сирот. У шестерых из нас были матери, а остальные девять оказались круглыми сиротами. Сразу после войны, в 1945 или 46‑м году вышел указ Сталина о том, чтобы всех сирот забрать в детдома, но она умудрилась никого из нас не отдать. Многих, действительно, забирали насильно, даже у меня это запечатлелось в памяти – но у нее отобрать внуков не получилось.
Когда в 1960‑м я поступил в институт здесь, в Алматы, как-то осенью пошел на спектакль «Материнское сердце» Чингиза Айтматова и увидел свою бабушку. Но у героини Айтматова на фронте погибло двое детей, а у моей аже – все шестеро. Единственным живым, но с тяжелым ранением, полученным под Сталинградом, вернулся мой отец. В 45‑м, через два года после возвращения, он умер от ран. Всего в 23 года.
– Понимаю, какие это тяжелые воспоминания. Благодарю вас, Жаугашты-ага, за эту беседу, а также за то, что вы сделали за все эти годы для страны и ее граждан!
– Вам рахмет за предоставленную возможность! «ДАТ» я читаю всегда и везде с момента основания. А что касается воспоминаний, то они скорее теплые и приятные. Наверное, это приходит с годами. В любом случае я могу сказать, что ни капельки не стыжусь своего прошлого, и, если бы вы мне задали вопрос «Чтобы бы вы хотели изменить в своей жизни?», а бы ответил: «Наверное, ничего!».
Беседовал Мирас НУРМУХАНБЕТОВ, «D»






