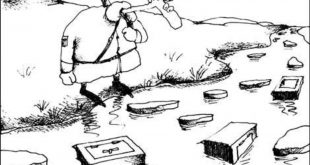По расчетам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Казахстан гордо возглавил список стран ЕАЭС… по количеству зарегистрированных безработных. Больше, чем в России! А теперь сюрприз: официальная безработица у нас всего-то около 5%, а в начале этого года вообще достигла исторического минимума – 4,6%. Как такое возможно? Давайте разберемся, пока кто-то еще не подсчитал безработных на Марсе.
Разлет в цифрах объясняется просто: в докладе ЕЭК речь идет о тех, кто официально стоит на учете. В Казахстане таких 333 тысячи человек, в России – 283 тысячи. Но если говорить о реальном уровне безработицы, то в России она составляет 2,4% (2 миллиона человек), а у нас 4,6% (примерно 450 тысяч человек). То есть чисто по процентам Казахстан на втором месте в ЕАЭС – после Армении (12,9%).
У соседей дела ещё печальнее: в Узбекистане безработица 6,8%, в Таджикистане – 6,9%. Только разница в том, что миллионы узбеков и таджиков просто уехали на заработки за границу и в статистику особо не попадают. Возможно, в недалеком будущем и у нас будет так… но пока приходится справляться своими силами.
Розовые очки реальности
Радоваться рано: даже сами депутаты признают, что официальная безработица – это фантазия для отчетности. Мажилисмен Елнур Бейсенбаев недавно заявил, что реальная безработица в Казахстане может достигать 12%, а это уже около миллиона человек. И это не потому, что все вдруг решили посвятить жизнь йоге и живописи: просто многие числятся «самозанятыми», что на деле часто означает «периодически работаю, чаще нет».
Молодежь: между мечтой и реальностью
Больше всего достается молодежи до 34 лет. Официальная статистика уверяет, что молодежная безработица всего 3,2%. Но показатель NEET (те, кто не учится, не работает и не проходит обучение) показывает куда более неприятные 6,6%. И это выше среднего по Центральной Азии. В некоторых областях, например, в Мангистауской – доля NEET превышает 11%.
При этом население страны молодеет: начиная с 2030 года рынок труда будет ежегодно пополняться 300 тысячами новых соискателей. А рабочих мест столько нет и не предвидится. Особенно в регионах, где карьера заканчивается на кассе супермаркета. Годом ранее бывший премьер-министр РК Акежан Кажегельдин говорил, что к 2030 году на рынок труда выйдут два миллиона молодых казахстанцев. По идее уже сейчас надо готовиться к этому, открывать учебные заведения и обучать нужным профессиям.
Образование vs рынок труда: бой без правил
Отдельное спасибо системе образования: менее 40% выпускников колледжей работают по специальности. В вузах ситуация не сильно лучше. Они продолжают штамповать теоретиков по устаревшим программам, тогда как экономика ждет инженеров, айтишников и специалистов с руками из нужного места.
Итог предсказуем: рынок труда завален безработными дипломированными безработниками, а бизнес с лупой ищет квалифицированных сотрудников.
Когда «инструменты» вместо решений
Президент Токаев в конце 2024 года напомнил: работать должен каждый сам за себя, а государство только создает условия. Причем 2025‑й был объявлен «Годом рабочих профессий». Хорошо сказано. Но беда в том, что на практике условия напоминают игру: «Взял лопату – найди себе сам золото».
Конечно, принимаются программы развития рынка труда, планируется создать 3,8 миллиона рабочих мест (чуть меньше половины на господдержке). Но программы снова идут по накатанной: краткосрочные курсы для всех подряд, минимальный контроль за результатами, а бизнес, как водится, стоит в сторонке и наблюдает с безопасной дистанции. Выпускников таких программ ждет радужная перспектива: общественные работы, временные подряды и минимум карьерных перспектив. Зато отчетность по созданию рабочих мест будет блестеть как новогодняя ёлка.
И кто же виноват?
Картина выглядит так: государство рисует оптимистичные графики, молодежь теряется между дипломами и подработками, бизнес ищет готовых специалистов, а в реальности никто никому особо не нужен.
Когда власть призывает граждан взять ответственность за свою судьбу, хочется кивнуть и вежливо попросить: а вы сами не хотите начать с себя?
Али Саматұлы, «D»