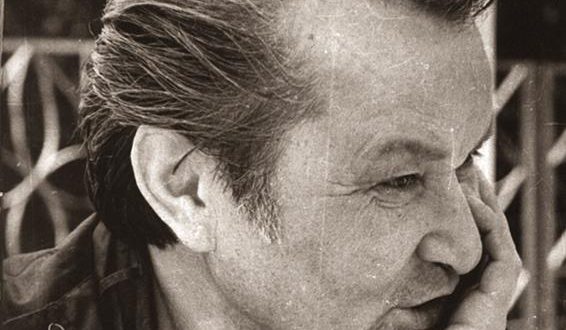«Общественная позиция»
(проект «DAT» №37 (354) от 13 октября 2016 г.
Смысл вольных строк

Пожалуй, уже четверть века назад критик, философ, большой знаток культуры и литературы Аскар Сулейменов (я с ним дружил с институтских и аспирантских времен до самой его безвременной – в 1992 году – кончины) очень напряженно рассуждал на тему: «Куда мы идем?».
Вопрос стоял кардинально – Россия как пробел в понимании. О правомочности существования России. О ее роли и месте в истории человечества.
Аскар исходил из того, что СССР – держава, которая обречена на распад, на неминуемый развал. И это – он так считал – не трагедия, а вполне закономерный, диалектический итог.
Одним словом, Судьба, от которой не уйдешь. И развал СССР в конечном итоге, скорее всего, – благо. Абсурд, недоразумение предвидели, предсказали сами трезвые русские мыслители, которым никак нельзя отказать ни в здравомыслии, ни в благородстве, ни в недостатке патриотизма.
Чаадаев смотрел в самый корень. Глубже всех понимал исток проблемы. И наиболее ясно и четко выразился.
Аскар ссылался на известные «Философические письма» и на «Апологию сумасшедшего».
Увы, проект Аскара так и не осуществился, как и многие его идеи.
Да и Нурпеисов, как я понял, не особенно был заинтересован в издании такой книги: хлопот не оберешься. Время смутное, скользкое: хай поднимут – туши свет. Ведь в книге прозвучали бы явно антирусские мотивы.
Четыре года спустя после смерти Аскара эта тема прозвучала в интервью корреспондента «Литературной газеты» (17.01.96) с историком, философом, публицистом Михаилом Яковлевичем Гефтером. Увы, публикация была посмертная.
Суть чаадаевского вопроса: куда мы движемся, какой идеей воодушевлены?
Гефтер рассуждает: «Действительно, сегодня мы имеем право говорить, что чаадаевский вопрос звучит как гамлетовский: быть России или не быть».
Отталкиваясь от этого постулата – быть или не быть, Михаил Гефтер уточняет: «Если быть России, то только в том случае, если она отыщет себя в человечестве, которое тоже не стоит на месте. Значит, возникает проблема какого-то догоняющего движения. И если быть в человечестве, как поступить по отношению к этому неостанавливающемуся на месте и ждущему, когда к ней подойдет Россия – или кто иной, оказавшийся в этой роли, – хотя Чаадаев никого, кроме России, в этой роли не видел.
Значит, возникает мысль, что вступить в человечество можно, только извлекая какие-то ресурсы непредусмотренного, непредугаданного самонахождения, самоутверждения».
Я нарочито прибег к этой длинной цитате, ибо вполне сознательно проецирую эту мысль на Казахстан, считая, что правомочно ставить так вопрос и в отношении нашей независимой страны.
В самом деле, как целесообразно смотреть на Казахстан: в человечестве, в глобальных масштабах или в сугубо национальном потоке развития, в ограниченных, локальных, замкнутых пределах-измерениях?
Вопрос не праздный. И продолжает стоять остро. И судя по множеству печатных публикаций, до сих пор окончательно не решенный, дискуссионный. Имеются сторонники обоих направлений.
Вроде стратегия определена в многолетних президентских посланиях народу, в фундаментальных, полных соблазна программах 2030 и 2050, в оптимистических, футурологических предвидениях недостатка нет, «планы-громадье» ошеломляют. И все равно червь сомнения грызет в душе, смущает, волнует: куда идем? Так ли идем? Вперед или назад? Или вовсе свернули на бездорожье?
Словом, «Эх, птица-тройка, куда несешься ты?».
Вариант: «Ай, тулпар мой крылатый, куда помчался ты?»
Лидеру нации, полагаю, все ясно. А вот, чай, уверенность массы невелика. Светлые идеи, спущенные сверху, не овладели ею. И при этом большинство населения косится по старинке в сторону России, памятуя евтушенковские строки:
– Если будет Россия, значит, буду и я.
Гефтер ничего не имел против общечеловеческих ценностей. Простой люд, надеюсь, тоже.
Гефтер видел несовмещение ритмов, образов жизни, способов жить.
Народ, обретший независимость, тоже это видит или, точнее, смутно ощущает, чувствует.
Много оттенков у чаадаевского вопроса. Мы, возможно, еще не уяснили их для себя во всех параметрах. А Аскар, мудрец, уникум, наверное, это понимал.
Имелся в виду СССР. Кое-кто тогда уже предчувствовал-предугадывал его неизбежное крушение. Говорили: как и все империи, Советы рухнут.
Локально мысли Аскара были о России и Казахстане. Аскар был убежден: идем мы куда-то не туда. Не вперед и не назад, а в непонятную – скорее всего, гибельную – сторону.
Я внимательно прислушивался к монологам моего младшего друга, но о грядущем моя голова особенно не болела: оно казалось слишком далеким, а повседневные житейские проблемы чересчур конкретно хватали за горло.
Аскар был весь переполнен суждениями и цитатами из Герцена, Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева, Петрашевского, Ленина и многих-многих других выдающихся мыслителей. Особенно часто звучал в его устах Чаадаев.
Набор цитат был целевой – критический, разоблачительный, едкий, горький, беспощадный, острый, болезненный.
Адресат – Россия.
Именно в те годы писатель Абдижамил Нурпеисов организовал издательство (напрочь забыл название, но оно было связано с «КРАМДС-банком»), и Аскар предложил проект (его особенно горячо поддержал Акселеу Сейдимбек, писатель, этнограф, историк) – издать острую, актуальную книгу типа «Россия глазами русских», в которой большое место отводилось в первую очередь Чаадаеву.
Гранями этого вопроса был озабочен и Гефтер: «Как войти в человечество, зная, что войти нужно, находя для этого свой особый способ вхождения, способ, который не будет безразличен для всех других на этой земле? И не по той простой причине, что мы способны взорвать эту жизнь, уничтожить ее, а потому, что эта евразийская особенность, уникальность для остального мира и опасна, и перспективна».
Я с 1941 года казахстанец, хотя и родился в России. В Казахстане я вырос, воспитывался, проникся казахским духом и, надеюсь, здесь в какой-то мере пригодился. Ничто казахское (а стало быть, шире: казахстанское) мне не чуждо.
С колокольни нынешнего времени и положения страны все – прошедшее, настоящее и грядущее – вроде ясно.
Ясно, да не совсем.
Все же вопрос, который в свое время Чаадаев ставил к России, полагаю, нынешний здравомыслящий казахстанский люд ставить вправе и к Казахстану. Трескотни и словоблудия, пустого бахвальства и постыдного даракианства избыток, а четкого ответа на очередные вопросы: откуда мы пришли и куда мы идем, туда ли или не туда, вперед или назад, или вообще бог весть в какую сторону – нет как нет.
Да, свобода! Но от чего и с чем ее едят?
Да, независимость! Опять-таки от кого и от чего? И главное: ради-для чего? Для безудержного воровства, для беспредельной коррупции, для разбоя, утех, самодурства, для откровенного «белден басу» – куда хочу, туда и ворочу?
Да, государство! Но какое? Со своим лицом, своей поступью или нечто показушное, чтобы только пыль в глаза пускать, головы неразумным хазарам морочить и прокисшей лапши безмолвной челяди на уши вешать?
Ал, не дерің бар?! Что тут скажешь?
На одном внешнем подражании далеко не ускачешь. Строптивый неук сбросит неумелого седока в первом же овраге-сае.
И Россия, и Америка, и Запад не всегда пример.
А кто пример-образец? Китай?
Не совсем уверен. Несоизмеримые понятия.
Михаил Гефтер говорит: «Дело в том, что Китаю не надо становиться Китаем, а России еще надо стать Россией».
Сказано это более 20 лет назад, но, приглядываясь к тому, что происходит ныне в России, не скажешь, что это суждение снято с повестки дня.
Вслед за Гефтером и я скажу, что Казахстану, несмотря на повседневную несмолкаемую барабанную дробь, еще предстоит стать Казахстаном. Не след самообманом утешать себя.
Тут могучей воли его многолетнего лидера, думаю, недостаточно, нужна добрая воля и созидательная мощь всех казахстанцев. Идея должна овладевать массой.
Этого пока не происходит. Как говорится, один смотрит на вас, другой – на Арзамас. Один, накарабчив три воза дерьма, нацелится за кордон, другой копошится в захудалом подворье заброшенного аула.
Әзір бастары қосылмайды. Желания-воли не находят единства.
Мудрый Аскар из Созака был человеком западной ориентации. Он глубоко знал историю, философию, литературу и искусство Запада и грезил, что Казахстан войдет в огромный, цивилизованный мир, присоединится к общечеловеческим ценностям, сохранив свою природную суть и ментальность.
Эту же мысль несколько позже высказал и Михаил Гефтер, утверждая: «Мы сможем войти в мир, не теряя самих себя».
Что объединяет трех личностей, о которых идет в данном эссе речь? Неравнодушное отношение к своему отечеству, нестандартное мышление, здравый скептицизм, аналитический ум, прозорливость и ВЕРА. Вера неистовая.
В «Апологии сумасшедшего» Петр Яковлевич открыто уповал на будущее России; Михаил Яковлевич верил в то, что постбольшевистская Россия обретет свое судьбоносное место в истории человечества; а Аскар Сулейменов, остро видя все изъяны родного Казахстана в канун развала Империи, горячо ратуя за национальное и – одновременно – гражданское общество, свято верил в духовную мощь, в ментальность, в традиции и язык своего народа.
Думаю, что Казахстан окреп, встал на ноги, распрямил спину, устремил взгляд в даль, но куда идти, еще не совсем точно осознал, находясь между Медведем и Драконом.
О том, что Россия должна отыскать себя в человечестве, убежденно писал Чаадаев. Там – полагаю я со своей колокольни – должен найти, обрести свое место и Казахстан. Только без спешки, без суеты, без надрыва и бахвальства, без воинственного клича и шапкозакидательства.
Веско сказано одним мудрецом: «Ақырын жүріп, анық бас!» – «Иди не спеша, но твердой поступью».
***
Мой собеседник, аксакал из Каркаралинска, задумчиво рассуждает: конечно, не сегодня-завтра наш саруар уйдет, или его «уйдут», сколько же на самом деле можно сидеть на троне, но тень его на земле будет править страной еще долго-долго, пока Казахстан не совсем покроет густой мрак, тьмы. «Неужели?!» – подумалось мне.
***
Люблю читать интервью именитых писателей и ученых. Ощущение такое, будто сам непосредственно беседуешь с яркими личностями, очищаешь душу, облагораживаешь сердце. Есть писатели, которые вообще, принципиально не дают интервью, предпочитая самим излагать свои сокровенные мысли. Есть писатели, которые дают интервью очень редко и неохотно. Тем они и особенно интересны. Я лично за свою жизнь давал сотни интервью, о чем ныне нередко жалею. Бывали глупые вопросы, на которые отвечал попугайски. Или мямлил нечто несущественное. Много зряшного наговорено.
Нравится мне в этом смысле установка американского писателя Джона Апдайка (автора романов «Кентавр», «Ферма», «Давай поженимся», «Кролик, беги»). Его в 60–80‑е годы прошлого века обильно печатали в СССР (в «Иностранной литературе», в частности). В 1964 году он приезжал в Москву, знакомился со многими известными в ту пору писателями. Когда корреспондент «Литературной газеты» просил его неоднократно об интервью, он, наконец, откликнулся: «Можете ли вы мне сказать, почему я должен давать вам интервью и сколько моего времени для этого потребуется?».
Очень резонно. Именно так надо ставить вопрос. Надо бы взять на вооружение.
Вот его мысль, которая меня всколыхнула.
«Люди, мне кажется, испытывают духовный голод. И не на шутку испуганы. Чем? Перспективой встречи с вечностью, неумолимой и осознаваемой с того момента, как человек вступает в жизнь. Ты просыпаешься утром, надеваешь на лицо улыбку, но постоянно сознаешь бренность бытия».
Джон Апдайк это сказал в 65-летнем возрасте (он 1932 года рождения). И то, что он тогда сказал, мне нынче особенно близко. Действительно, пишешь, говоришь, контактируешь с людьми, всячески бодришься, а сам постоянно сознаешь бренность всего сущего. Писателю это должно быть особенно свойственно.
«Для автора, художника важно право говорить то, что думаешь. И не бояться, что кто-то посадит тебя за это в тюрьму».
Мысль расхожая и правомерная во все времена. Однако у нас, в Казахстане, думаю, писатели редко говорят то, что думают, а озвучивают, словесно оформляют то, что надобно власть предержащим.
«Вот ведь в чем дело», – говорил в таких случаях покойный Морис Симашко.
И еще говорит Джон Апдайк: «Нормальным же является положение, когда ты пишешь для малочисленной элиты, которая располагает свободным временем для чтения и понимания предмета».
В Казахстане мы сейчас к этому пришли. Писатели вынуждены довольствоваться 1000–2000-ми тиражами. На большее редко кто может рассчитывать. «Реальная картина будущего может быть очень мрачной», – предрекает американский писатель.
Мне добавить к этой сентенции нечего.
Я часто пишу рецензии, обзоры книг (мой кумир по этой части Герман Гессе). И мне приятно, что этим занимался и Джон Апдайк. По этому поводу он выразился так: «Людям нравится обзоры книг – это избавляет от необходимости их читать».
С любовью говорит Апдайк о русской литературе. В интервью он упоминает Льва Толстого, Достоевского, Пушкина, Тургенева, Чехова, Набокова. Из современников – Е.Евтушенко, Вознесенского, Аксенова.
Вообще американцы создали великую литературу. Жаль, что мои казахстанские коллеги ее крайне мало знают.
Ratel.kz