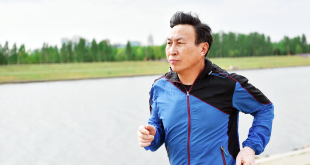Богатства недр ни счастья, ни благополучия рядовым казахстанцам не принесли. Корень зла – в неэффективном и несправедливом распределении доходов от использования природных ресурсов страны, считают и экономисты, и политики, и далекие от всего этого пенсионеры. Тем не менее время от времени власть вбрасывает в общество информацию о каких-то прорывных проектах, новых вершинах достижений. О них наша беседа с директором аналитического центра «Ракурс» Оразом Жандосовым.
– За годы независимости в казахстанскую экономику было привлечено 108 млрд долларов иностранных инвестиций. То есть ежегодно в среднем около 5,7 млрд. На ваш взгляд, это много или мало?
– Конечно, в общем объеме 5,7 млрд долларов в год прямых иностранных инвестиций в Казахстан – это достаточно много. Но проблема в том, что все они в основном вложены в сырьевой сектор. Доля их в несырьевом секторе печально мала.
– Правительство нас уверяет, что разрабатываемая Программа форсированного индустриально-инновационного развития как раз ориентирована на создание новых производств в несырьевом секторе экономики. Что скажете по этому поводу?
– В Программе в значительной степени охвачены инфраструктурные вещи – строительство автомобильных, железных дорог и т.д. Эта сфера, действительно, нуждается в серьезном финансировании, в нее можно и нужно много вкладывать.
Программа также предусматривает проекты по дальнейшей переработке сырья. Но если исходить из тех 45 млрд долларов, которые приводятся в ней, пересчитать долю по отраслям, то нетрудно убедиться, что сфера переработки вновь остается на задворках. Поэтому, считаю, что правительство должно твердо стоять на такой позиции, при которой инвесторы, получающие огромные прибыли от добычи сырья за счет высоких цен, активно инвестировали и таким образом стимулировали развитие обрабатывающей отрасли в казахстанской экономике.
– Каковы наши внутренние инвестиционные резервы? Некоторые экономисты полагают, что неплохим подспорьем могли бы стать накопления пенсионных фондов.
– Я сторонник того, чтобы проявлять крайнюю осторожность в отношении пенсионных накоплений. Прежде всего, должно быть очень четкое регулирование и ясное понимание того, на что эти деньги пойдут. Пенсионные деньги, по сути, не могут вкладываться в бумаги по тем проектам, где существуют высокие риски. К сожалению, ошибок и злоупотреблений на этом поле в предыдущие годы было допущено немало. Шлейф громких скандалов тянется до сих пор. В частности, если вы помните, много пенсионных денег было вложено в компании, которые допустили дефолт. На деньги пенсионных фондов также приобретались акции, которые потом обесценились. Это такой урок, о котором никогда не стоит забывать. Пенсионные накопления ни в коем случае не должны использоваться в качестве заплатки в инвестиционных «дырах».
Думаю, в качестве инвестиций можно привлекать в экономику частные деньги, пусть даже их не так уж и много. Но пойдут ли на риски собственники этих средств? Вряд ли. Но это не значит, что не стоит разрабатывать механизмы, которые позволят наряду с иностранными прямыми инвестициями привлечь их в отечественную экономику.
Если коротко, то надо сказать, что, конечно, потенциал увеличения внутренних инвестиций в стране есть. К сожалению, бизнес-климат в целом и по отдельным отраслям в Казахстане недостаточно благоприятен, чтобы можно было вкладывать деньги без риска. В этом-то и состоит наша основная проблема.
– Финансирование в период глобального экономического кризиса из средств Национального фонда, как известно, в основном коснулось банковского сектора, крупных строительных компаний. Однако эффективность от этих вложений народ не почувствовал на себе. Не благоразумней ли была бы социальная ориентированность средств Нацфонда?
– Общий режим планирования Национального фонда известен. Так, осуществляются регулярные трансферты из Нацфонда в бюджет в размере 8 млрд долларов в год. Они не привязаны ни к каким конкретным расходам. Но в целом считается, что они покрывают бюджетные программы развития. Но поскольку бюджетные программы развития финансируются меньше, чем на 8 млрд долларов, то они служат источником расходов и по другим программам, включая и социальные.
Эффективность расходования средств Национального фонда равна эффективности расходования средств бюджета.
Но вызывает вопросы своевременность антикризисной программы. Как известно, большая часть средств Нацфонда в рамках антикризисной программы была использована в 2009, а не в 2008 году. Действительно, большая часть их пошла на стабилизацию банковского сектора. В принципе, я думаю, что это было правильное решение, но реализованное крайне запоздало.
– По официальным данным, за годы строительства Астаны использовано 40 млрд долларов. Как вы думаете, насколько оправданны такие вложения на один город в степи?
– Если говорить о финансировании строительства Астаны из госбюджета, то эти инвестиции чрезмерны. В других регионах страны проблем в развитии инфраструктуры тоже больше, чем достаточно. С этой точки зрения, считаю, что уже вложенные и еще вкладываемые в новую столицу огромные суммы народных денег экономически никак не оправданны. Инвестиции на строительство Астаны должны стимулироваться из частного сектора.
– Вообще, если учесть нынешнюю экономическую политику государства, что значат иностранные инвестиции для будущих поколений казахстанцев?
– Условия контрактов, по которым направляются средства в сырьевой сектор, для страны не совсем выгодны. Об этом много говорилось, но продвижения нет. Есть какие-то шаги, но полного поворота нет, поскольку та доля, которую государство получает в виде налога от них, мала, в виде прибыли – тоже невелика. И это основная причина того, что мы сейчас имеем.
Что касается того, сколько нужно инвестиций Казахстану, то ответ на этот вопрос напрямую связан с другим: нужно ли добывать больше нефти, чем сегодня? Концептуального понимания этого вопроса нет.
Если говорить об иностранных инвесторах, то их тоже нужно отличать друг от друга. Есть отечественные инвесторы – государственные компании, тот же «КазМунайГаз», которые в силу очень сложных технологических проблем не в состоянии самостоятельно осваивать месторождения нефти. Скажем, в Тенгизе, на Кашагане. Поэтому там без участия иностранных инвесторов нельзя обойтись.
Но, с другой стороны, особенно это касается горнорудных месторождений, зарубежные партнеры не нужны.
– В последнее время массу домыслов и слухов вызывает настойчивое стремление казахстанских властей продать БТА банк Сбербанку России. Многие это связывают с попытками власти отобрать активы, которые остались в России у Мухтара Аблязова. Имеют ли эти разговоры право на существование?
– С точки зрения экономических аргументов, такие домыслы несерьезные, а с точки зрения политических, – ангажированные.
Если вам интересно мое мнение на этот счет, то считаю: если продавать какой-то банк, то нужно это делать на открытом тендере. Если российские банки предложат лучшую цену, то ради бога. Если информационный пакет будет подробным, то открытость процесса позволит всем претендентам понять свою возможность вытащить те или иные проблемные активы. Исходя из этого, они и будут называть свою цену. Если какой-то российский покупатель – а им может стать и не банк, а, например, частное лицо, вроде Дерипаски – будет знать, что для него вытащить 50% кредитов вполне реально, то он будет, соответственно, предлагать большую цену, чем, скажем, какой-то японский банк, который думает, что он ничего не вытащит. Другого способа для того, чтобы не ходили домыслы, я не вижу.
– Спасибо за интервью.
Мария УНГАРОВА,
«D»