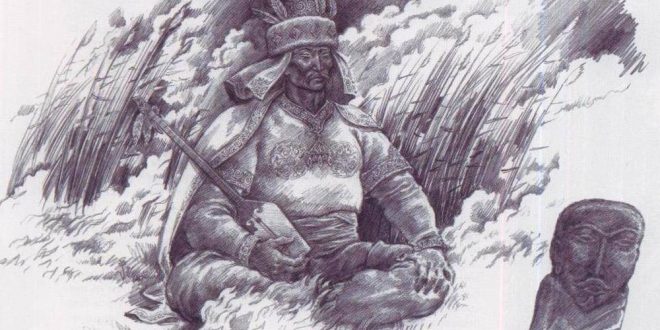Творите о себе мифы. Боги начинали именно так.
Творите о себе мифы. Боги начинали именно так.
Станислав Ежи Лец
• Известный публицист, главный редактор «Новой газеты – Казахстан» Амантай Дандыгулов закончил очередную книгу о своих взглядах к истории казахской степи. По словам автора, она будет предложена на суд читателя в ближайшее время. А мы, опережая событие, решили опубликовать фрагменты из его книги, которая будет называться «Всадники Апокалипсиса: из прошлого в будущее».
Мифы в нас, мы в мифах
Наша память цепко держится за легенды, предания, мифы. И мы уже не замечаем, где заканчивается реальность и начинаются предания. Возможно, и в будущем наша сегодняшняя жизнь также будет мифологизирована. И наши потомки будут с трепетом касаться – пусть уже не папирусов и рукописей, но файлов, 4D-видеозаписей, книг (надеюсь, всё же), – живописующих нас, сегодняшних. Отделить правду от вымысла, идеологию и пропаганду – от искреннего стремления очевидца поделиться увиденным, цензуру – от скромного умолчания непафосного автора – им будет так же сложно, как и нам, перебирающим нынче полуистлевшие страницы прошлого.
Но наверняка будет и общее в этом пытливом поиске. Это стремление отыскать в шелухе и суматохе дней тот незамутнённый родник, к которому так жаждет припасть затолканный буднями человек, отравленный повседневностью маленький винтик глобализированного сообщества, который всё же смутно и мнит, и помнит о себе нечто большее, чем просто набор животно-потребительских функций.
Он подозревает о существовании этого скрытого и сакрального: и надо лишь напомнить ему и подтвердить его робкие догадки. «Да, сынок, ты уже такой, какой ты есть, а вот эти черты и вот эти в тебе – от твоих предков, которые были…» И слушатели торопливо занимают место у потрескивающего в ночной степи костра, подвигаясь ближе к седобородому старцу, что начинает выплетать причудливую нить сказаний о старине глубокой.…
Наше сегодняшнее обращение к сакральным мифам родной сердцу каждого кочевника Великой Степи – сродни погружению батискафа Жюль Верна: мы словно его герои, проникающие в глубь земли. Они не знали, что найдут, не ведали, чего ищут. Нам же известен наш конечный пункт путешествия. Главная цель автора этого скромного эссе – поиски всё того же Святого Грааля, изыскание нашей идентичности в Прошлом, чтобы смоделировать Будущее.
Мы ищем наши истоки, нам важно нащупать ту бьющуюся жилку, ощутить и крепко ухватиться за ту пуповину, что связывает нас накрепко с Матерью-Историей. И вот уже пять тысяч лет люди стремительно огибают земной шар, поднимаются к звёздам, погружаются в глубины, занимаются самоедством и самоанализом в поисках сакрального своего начала под тревожным, заботливым взором своего самого дорогого человека. Её глаза, усталые и любящие, следят за каждым нашим движением, оберегая и храня нас на каждом этапе нашего жизненного пути, провожают нас в очередной путь на поиски Смысла и Истоков…
Она является богом для каждого нарождающегося человека. Его цивилизацией. Его миром. Потом мы вырастаем, и её объятия нам кажутся тесными, а забота чрезмерной – и мы направляемся на покорение мира. Своему тревожному беспокойству мы создаём всё новые оправдания. Мы строим планы. Рисуем родословные. Всю жизнь напролёт ищем ту, что находится рядом с нами с первого же момента нашего слепого, судорожного пребывания в утробе. Мы ищем Её. Мать.
И как не выстраивай шежире, исток и исход всегда – от Неё. От Её чресл. От Её груди. Мы поймём, когда будет уже очень поздно. Когда в очередном скитании по миру мы почувствуем, как кольнёт больно в груди, а позже нам расскажут, что она ушла. И новым значением наполнятся для нас словосочетания Ана, Әже, Келін, Ана Тілі. Мать Сыра Земля. Родина-мать…
Томирис: та, которая
дала напиться
Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы – мы!
Да, азиаты – мы,
С раскосыми и жадными очами!..
Мы любим плоть – и вкус её, и цвет,
И душный, смертный плоти запах…
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжёлых, нежныхнаших лапах?
Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжёлые крестцы,
И усмирять рабынь строптивых…
Александр Блок.
«Скифы»
(30 января 1918 г.)
…Этот сюжет знаком и ценителям живописи, и знатокам преданий и мифов: суровая воительница, увенчанная шлемом, сжимающая меч, погружает в кожаный бурдюк мужскую голову с зажмуренными от ужаса глазами, болтающимися жилами и аортами, вываленным наружу языком. В уголках рта амазонки залегли горькие складки, спряталась неизбывная грусть, так остро диссонирующая с пафосным моментом торжества победительницы…
Скифское племя массагетов многие исследователи относят к протоказахским племенам. Именно на долю массагетской воительницы, царицы Томирис (570 – 520 гг. до н. э.) выпала честь обуздать высокомерного и гордого предводителя персов – Кира ІІ Великого. Её схватка с основателем державы Ахеменидов, покорителем Вавилона и всей Месопотамии в целом – красноречивейшая иллюстрация казахского выражения «батылдық күште емес, жүректе».
Той атаке на небольшое (по сравнению с уже покорёнными народами), но гордое кочевое племя посвятили свои оды писатели античности, его живописал в своей помпезной (и оттого, надо признать, излишне вычурной и пафосной) картине фламандский живописец Питер Пауль Рубенс, центральное место в своих трудах ей отвёл и сам отец истории – Геродот: «Эту битву я считаю самой жестокой из тех битв, которые были у варваров».
Массагетов Кир, похоже, и не воспринимал всерьёз: древних кочевников их современники преподносят в исторических свидетельствах как «бедных», «диких» и «немногочисленных». Вторгшись на территорию наших протопредков, он заманил в ловушку командовавшего войсками сына Томирис по имени Спаргапис.
Вступившись за сына, мать отправила интервенту послание: «Алчущий крови Кир, … отдай мне моего сына и уходи из этой страны безнаказанно… Если же ты не сделаешь этого, то клянусь тебе солнцем, владыкой массагетов, я напою тебя кровью, хотя ты и ненасытен».
Улучив момент, пленённый Спаргапис в ставке Кира бросился на меч и прервал свой жизненный путь. Войско же его матери разметало вторгшихся персов, а сама Томирис лично погрузила отсечённую голову Кира Великого в бурдюк с кровью: «Ты меня, живую и одержавшую над тобой победу в битве, погубил, захватив хитростью моего сына. Я же тебя, как угрожала, напою кровью».
Есть Женщины в наших аулах…
И сны, и мифы — важные средства связи, идущие от нас к нам же.
Если мы не понимаем языка, на котором они созданы, мимо нас проходит многое из того, что мы знаем и рассказываем самим себе в те часы, когда не заняты действиями с внешним миром.
Эрих Фромм. «Забытый язык»
Девочка, сестра, мать, әже, невестка – огромный, институциональный, культурологический пласт в памяти и сознании Великой сакральной Степи. Женщина-мать – основа семейного уюта, свет и тепло домашнего очага, достаток его и счастье. Кроме того, именно она – опора близости и согласия между родственниками, соплеменниками, и строго блюдя межродовое согласие. В древних изречениях народа говорится: «Если растёт сын – достояние потомков, если растёт дочь – достояние народа», «Счастье народа – хан, счастье рода – бий, счастье аймака – аксакал, счастье аула – байбише». Если вождь персидского народа Имам Хомейни говорит: «Если женщина одной рукой качает колыбель, то второй рукой лелеет весь мир», балкарцы говорят: «Мужчины воспитывают сыновей, женщины-матери воспитывают нацию». Если Мухтар Ауэзов подчёркивал: «Будущее нации в руках девушек и матерей», то в казахских поговорках говорится: «Землю хранят мужчины, нацию сохраняют девушки», «Благодарю соль, дающую вкус еде, благодарю девушку, соединяющую между собой народ».
История человечества во все времена и у всех народов зафиксировала огромное количество примеров, как из среды, казалось бы, хрупких и слабых женщин выходили одарённые личности: и цари, и гении, знаменитые поэты и героические батыры. Слава Богу, не лишены были таких женщин и мы.
Хотя надо, конечно же, признать: у казахов действительно женщины не включались в процесс скотоводческого производства, хозяйственный опыт и наследство (қара шанырақ) передавались по патрилинейным каналам (по мужской линии). Но место даже и в патриархальном казахском обществе у женщины было порой особое.
К примеру, роль хана Абулхаира (чингизид, төре) в истории Великой Степи могла быть совсем иной, если бы не его супруга – ханша Бопай, также из рода чингизидов (төре). Сегодня, оценивая причины его яростного противостояния со степной элитой, подтолкнувшего Абулхаира на поиски внешних союзников и в итоге – на заключение союза с российской императрицей, помимо всех уже известных объективных обстоятельств (угроза джунгарского нашествия, необходимость укрепления собственного внутриполитического авторитета через внешнеполитический альянс с сильным союзником и пр.) можно назвать и эту, весьма понятную всем мужчинам, бытовую и матримониальную подоплёку его безудержного стремления к властному бунчуку. Казахи говорят: ақылды әйел жаман еркекті төрге сүйрейді, ақылсыз әйел жақсы еркекті көрге сүйрейді.
Казахстанский историограф Ирина Ерофеева отмечает, что «с точки зрения редкого сочетания внешней привлекательности и развитых интеллектуально-волевых качеств, личной самодостаточности и сильного влияния как на собственного мужа, так и на старшинское окружение последнего Бопай-ханым, бесспорно, можно считать одной из самых выдающихся казахских женщин эпохи средневековья и нового времени. Её брачный союз с Абулхаиром по силе взаимной привязанности обоих супругов и их взаимодополняемости, а также по своей социальной значимости в деле управления казахами Младшего и Среднего жузов сопоставим с широко известными образцами таких гармоничных супружеских тандемов, как Юлий Цезарь и Клеопатра, князь Игорь и княгиня Ольга, эмир Тимур и его старшая жена Биби-ханым, султан Бабур и его супруга Султан-Нигар-ханым и другие. Именно поэтому политические шаги и сама яркая личность ханши Бопай занимают немаловажное место во многих письменных источниках по истории Казахстана второй четверти XVIII века».
Признанный авторитет среди отечественных историков, Ирина Ерофеева подчёркивает, что ханша Бопай отличалась глубоким, совсем не женским умом, сильным характером, не лишённым немалой доли властолюбия, определённой независимостью в суждениях и поступках и в то же время врождённым политическим тактом. В разные годы Бопай-ханым пользовалась неизменным уважением у казахских старшин и «имела иногда весьма сильное влияние на управление» казахскими родами Младшего и Среднего жузов. Аркадий Ираклиевич Лёвшин, «Геродот казахского народа», отмечал эксклюзивную, беспрецедентную деталь: ханша Бопай «имела печать со своим вензелем – отличие, совсем необыкновенное в народе, который привык обращаться с женщинами как с невольницами, удаляя их от всякого участия в делах общественных». Самого Абулхаира элита и степная знать «не ставили ни в фош», как вспоминали тогда современники: его ахиллесовой пятой (как следствие, причиной и повышенной вспыльчивости, и безрассудности) было незнатное положение династических предков. Зато совместное появление супружеской четы перед курултаем казахских старшин значительно укрепляло авторитетность и весомость выдвигаемых Абулхаиром инициатив («повышало его рейтинг», как сказали бы сегодня). Примечательно, что вслед за пятью сыновьями она принесла Абулхаиру и дочь Зулейху, – когда супругу было уже около 60 лет.
Ханша значительно пережила убитого ханом Бараком супруга, продолжила начатые им переговоры по междинастическому альянсу с джунгарским хунтайджи Цэваном Доржи. Умерла она, миновав уже 100-летний рубеж.
Женщины, чьи имена
стали легендой
Впрочем, истории о происхождении чего бы то ни было имеют тенденцию рано или поздно превращаться в миф.
Роджер Желязны. «Хроники Амбера»
У казахов немало женщин, чьи образы вошли в легенды и предания, стали героями сказаний и поэм, чьи имена дали названия родам и племенам, стали их боевыми кличами («ұран»). Среди них жившая в XV–XVI веках третья жена Байдибек бия Домалак ана (Нурила). Она победила в словесном поединке Бухар хана и отстояла для своего племени удобно расположенные земли под стойбища. Достойна упоминания и Жупар ана, приводившая в восторг и найманов, и аргынов.
Следует вспомнить и Жанбике, молодую невестку Даулетбике, которая одним словом положила на лопатки Кулбарак батыра, заставив его отказаться от полученного от царского правительства чина и чекпеня. Байбише Тогиса Иса, совершившая хадж в Мекку (названная в народе «Кажы апа»), вырастила и поставила на истинный путь гордость трёх жузов Колбая Тогисова. Можно назвать ещё десятки и сотни таких женщин-матерей, которые являются гордостью казахского народа.
Это и упомянутые выше Әлпеш (в шежире называют также Аксулу, Манзура, Жезетек) и Кызеней (настоящее имя неизвестно) – святые матери, сделавшие много для продолжения рода Найманов.
В числе таких женщин – Баян Карабайкызы, главная героиня лирического эпоса «Қозы Көрпеш – Баян сұлу», отметившего недавно своё 1500-летие. Из рода Найманов. Историки без спора признают, что она – из племени Баганалы. М. П. Грязнов в своей книге «Древние памятники героического эпоса народов Южной Сибири» доказывает, что найденные археологами изображения на золотой подвеске принадлежат «Козы Корпеш и Баян сулу». Эти золотые подвески археологи датируют ІV-III вв. до н. э.
Коныр. Корипкел, святая мать. Её именем названо местечко Байконыр, на котором находится космодром. Жандели (Жандай). Девушка-батыр из найманского рода Тортуыл. Гаухар. Жена Кабанбай батыра, сестрёнка аргынского батыра Малайсары. Настоящее имя – Майсара. Назым – дочь Кабанбай батыра, девушка-батыр.
Айбике. Известная казахская девушка- батыр в своё время прославилась на больших сборищах как палуан (борец). Жена и спутник Колбайулы Буланбая (1747 –1845): он был в составе посольства Абылай хана, отправленного им лично в крупнейший на тот момент город мира – Пекин. Бдительная и зоркая разведчица, Айбике предотвратила многие нападения калмыцких отрядов в тот период, когда казахские роды населяли Тарбагатайский округ и побережья Иртыша (85. 570).
Мамыр Байгазыкызы. Главная героиня дастана Шакарима Кудайбердыулы «Калкаман – Мамыр». Жертва любви, убитая Кокенай батыром за то, что полюбила близкого по крови джигита Калкамана Айтекеулы.
Енлик Ысканкызы. Главная героиня дастана Шакарима Кудайбердыулы «Енлик – Кебек». Дочь Карабатыра Ыскана из ветви Байконды Торткара Матаев. За то, что нарушила традиции сватовства и полюбила джигита по имени Кебек Туйебайулы, в 1750 году их обоих приговорили к смерти и казнили, привязав к хвостам лошадей.
Кулан ханым. (И. Кабышулы называет её и Кулан, и Кулын) – четвёртая жена Чингисхана (XIII в.). Дочь младшего брата меркитского хана Токтарбека Тайыра. Когда войско Токтарбека стало проигрывать Чингисхану, Тайыр, чтобы найти с ним общий язык и породниться, отправился к Сотрясателю Вселенной вместе с дочерью Кулан. Тайыр встретился с Най нояном в сопровождении нукеров. Най ноян, заботясь об их безопасности, послал вперёд разведчиков и задержался на пару дней. Узнав о том, что они задержались в дороге, Чингисхан заподозрил, что что-то произошло между Наем и Кулан, набросился на Ная со словами: «Почему вы задержались?» – и дал приказ допросить его.
Тогда вмешалась Кулан: «Наверно, мы остались живы только благодаря встрече с Наем, дорога была очень опасной. Чем допрашивать Наяна, не лучше ли проверить моё целомудрие и убедиться в его невиновности?» Так мудрая девушка сохранила жизнь Ная (112. 189 стр.). «Историки признают, что среди многих жён Чингисхана самой мудрой была девушка из Танир-Уйсунов Кулан» (30. 102). Чингисхан с того дня на протяжении всей жизни прислушивался к словам Кулан.
Торкин бике – Тореене ханым – байбише Укитай хана, родом из найманов (по сведениям Джувейни), мать Великого хана Куйика. Сохранился документ, подтверждающий, что после кончины мужа Укитая на протяжении пяти лет она исполняла обязанности секретаря Монгольской империи и подписывала бумаги «Еке ханым Тореене». Этот документ был написан 10 апреля 1240 года и на нём поставлена печать Великого хана Укитая. Тореене – это её имя было связано с занимаемой ею должностью. Подвластные ханше найманские роды после крушения их союза стали отдельным родом под названием Торе1. (26 а. 24–25). К Торе относятся роды Елата, Кара Керей, Каратай, Садыр, Матай. (26 а. 135).
Саркыт ханым (Саркуктани) – жена младшего сына Толе, керейка. Мать четырёх ханов – Манги, Кубылай, Арыкбука, Кубагул (Хулагу).
Айганым Саргалдаккызы (1783–1853). Из рода Кожа. Знала несколько восточных языков – арабский, персидский, чагатайский и др. (95. 1–126). После смерти Уали хана Абылайулы (1819) российские власти признают наследником престола не сына Уали (кстати, династию Уали продолжали несколько сыновей от четырёх жён), – предпочтение было отдано именно Айганым, его 37-летней вдове. Первой среди казахских женщин она исполняла обязанности хана – в течение 13 лет. С этой поры уже она лично ставила оттиски печати своего мужа Уали хана на письма, отправляемые в адрес царской администрации. В них она просила помощи в строительстве жилья, школ, мечетей, бань для приучения народа к осёдлости, «выбивала» (как мы бы сказали сегодня) средства на приобретение орудий земледелия и посевного материала. Царь Александр І удовлетворил просьбы Айганым и издал специальный указ об оказании помощи. Когда в 1822 году согласно нового указа о сибирских казахах была упразднена ханская власть, созданы округи и утверждалась власть старших султанов, Айганым была избрана старшим султаном. Когда её возраст приблизился к пятидесяти годам, она передала должность любимому сыну Шынгысу. Скончалась в 1852 году в возрасте 70 лет (80−10. 25–54).
Аккатша Тенелбаева двадцать раз подряд избиралась волостной (найманка, баганалы). Аккелин десятки лет была волостной, после её смерти волости присвоили её имя – Аккелин болосы (об этом поведал в своё время Габит Мусрепов).
Уйрек ана – Тыныштык. Она была происхождением из простой семьи, богатого жениха себе не искала, вышла замуж по любви, выбрав себе ровню. В 14 лет она стала невесткой в доме с девятью сиротами-сыновьями, но благодаря ниспосланным ей Аллахом личностным качествам поднялась до руководителя рода Каракерей-Мурын.
Акбикеш и Макпал. В казахском народе было немало выдающихся умом и сердцем матерей, сохранявших единство и согласие среди соплеменников. К таким женщинам относится и проживавшая в Улытау дочь домбриста Ербатыра Акбикеш. Она была выдана замуж за сына человека по имени Тангулы из аргынской ветви Айдерке Солтана. Всё в руках Бога: в течение восьми-девяти лет Акбикеш не могла родить детей. Эту печаль умницы Акбикеш разделяли не только близкие, но и все сородичи. Как-то раз она что-то замыслила и с разрешения родителей мужа отправилась к своим родным. В дороге её сопровождал племянник мужа. Перед неблизким путём она сказала провожающим: «Если даст Бог, уеду вдвоём, вернусь втроём». Родители мужа не поняли смысла этих слов, но, разумеется, благословили в дорогу. Приехав в родной аул, она объяснила значение этих слов своим родителям: «Слава Богу, меня ценят в доме мужа, носят на ладонях. Одна лишь печаль – нет ребёнка. И вот я пришла к вам с надеждой осуществить свою заветную мечту. Может, отдадите в дом, куда выдали меня, и мою сестру Макпал. Я хочу сделать её второй женой своего мужа Солтана, чтобы она родила нам ребёнка. Очень надеюсь на ваше понимание и благосклонность». Услышав эти слова, мать Акбикеш залилась слезами. А отец Ербатыр вдруг встал и, собрав весь дух, произнёс: «Милая, сам Создатель вложил в твоё сердце эту мысль! Благословляю! Там, куда пришла ты, и положение Макпал будет не ниже других. Мать, утри слезы, готовься, отправим детей по-доброму, со своим благословением». Всё получилось, как она сказала: уехала вдвоём, вернулась втроём, порадовав родню мужа. Прошло какое-то время, и Бог внял её просьбам, Акбикеш и Макпал обе родили в одно время, ещё более обрадовав всех. От двух матерей осталось большое потомство (85. 572–573).
Амантай
ДАНДЫГУЛОВ,
публицист
(Продолжение следует)